На одной научно-практической конференции в Новосибирске автор этих строк в полемическом задоре провозгласил: «Хватит! Хватит говорить о корнях. Пора говорить корнями!» Речь шла о «русской идее» и шла она, понятное дело, исключительно в греческих терминах и их производных: «идея», «логос», «бытие» и тому подобных. Древний грек, говоря – «физика», «логос» – чувствовал живую связь этих слов с картиной мира, в которой прорастающее (фюзис) отовсюду сущее срезается, собирается (легейн) как урожай серпом слова… Что чувствуем мы, барахтаясь в этих словах? Профессор из Академгородка язвительно парировал: «Ну, скажите нам что-нибудь “корнями”, мы с удовольствием послушаем…» Пришлось скрипя зубами признать – русские корни молчат, когда речь заходит о научном осмыслении мира. Такая вот эпистема…
Где вообще эти корни искать и какого рода усилие нужно приложить, чтобы услышать, о чём они нам сообщают? Мне представляется, что усилие это – того же рода, что и попытка внутри сна осознать, что это сон: фундаментальное действие, не требующее, однако, никаких ресурсов и, собственно, усилий. По поводу того, где же искать наши корни, предлагаю принять умонастроение пытливого философа: искать повсюду, не пренебрегать ни одной мелочью, пытаться в любом частном разглядеть общее. Почему мы вообще заговорили о корнях? Ведь тема данной статьи – Кострома? Вот именно! Какое-то наитие подсказывает, что Кострома может оказаться ключом к осмыслению «русского» в его самобытности. Сделаем три поворота этого ключа, углубляясь всё глубже в историю: вспомним о том, что Кострома – это: 1). родина Снегурочки, 2). колыбель дома Романовых, 3). часть древнего языческого обряда.

Родина Снегурочки
Итак, Снегурочка. Мы знаем её как внучку Деда Мороза, сопровождающую его во время празднования Нового года. В такой роли она была представлена в 1937 году на первом бале-карнавале отличников учёбы в Доме Союзов, с которого пошла традиция проведения «главной ёлки страны». Роль Снегурочки тогда досталась уроженке села Щелыко́во Костромской губернии Вере Семеновне Давыдковой – ткачихе, участнице кружка самодеятельности рабочей молодежи. В нашей коллективной памяти 1937-й год отпечатался отнюдь не радостными событиями. Зададимся вопросом: неужели в такое драматическое время руководству страны нечем было заняться, кроме введения Снегурочки в новогодние традиции? Здесь нужно упомянуть, что опера «Снегурочка» Николая Андреевича Римского-Корсакова была одним из любимых произведений Сталина, он посещал её 19 раз. Другие произведения Римского-Корсакова также не выходили из репертуаров советских театров. Монументальное «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» ставилось 7 раз. Отличительной особенностью этих произведений был акцент на языческом прошлом либо переплетение языческих и христианских корней. Советское общество пыталось нащупать опору в прошлом и высказать образ будущего своими словами, приблизить коммунистические идеологемы к понятийной системе, веками и тысячелетиями формировавшейся на нашей земле.


"Ликует пионерия - сегодня в гости к нам пришёл Лаврентий Павлович Берия!"
Именно поиском народных корней в области музыкального творчества занимался в своё время Римский-Корсаков будучи членом «Могучей кучки». Это была поистине группа музыкальных революционеров, объединённая вокруг личности идеолога национальной культуры Владимира Васильевича Стасова. Через «Могучую кучку» и движение художников-передвижников Стасов продвигал своё видение фольклора, расходившееся с устоявшимися позициями как славянофилов, так и западников. Он предлагал всерьёз вслушаться в мелодику песен народов России, всмотреться в их орнаменты – не в навязываемые церковью византийские образцы, и не только в польско-малороссийские образцы, но в творчество десятков народов российского Поволжья, русского Севера. Здесь, утверждал Стасов на обширном материале своих исследований, лежат корни великорусского этноса, лежащие до поры под спудом царской государственной машины и церковной пропаганды. Неудивительно, что его деятельность вызывала яростную критику, a также то, что его племянница, Елена Дмитриевна Стасова стала одной из виднейших революционерок, соратницей Ленина и Сталина, а в годы Гражданской войны – секретарём ЦК ВКП(б). Неудивительно и то, что Н.А. Римский-Корсаков стал основой советской музыкальной культуры. Во время первой русской революции 1905 года Римский-Корсаков поддержал резолюцию студенческой сходки Петербургской консерватории о том, что «музыканты не имеют права считать, что их назначение забавлять господствующие классы в то время, когда народ поднялся против этих классов». В результате, по решению дирекции Императорского русского музыкального общества, утверждённому великим князем Константином Константиновичем Романовым, Николай Андреевич был уволен из числа профессоров консерватории. По собственному признанию композитора, он стал «ярко-красным» после Кровавого воскресенья.
Если «Снегурочка» и «Сказание о граде Китеже» рисовали образы идеального, справедливого мироустройства, то такие произведения, как опера «Золотой петушок» жёстко высмеивали глупость и жестокость правящей династии и придворной камарильи: «Кири-куку! Царствуй лёжа на боку!» Опера «Садко» была вычеркнута из списка намечаемых к постановке на императорской сцене лично Николаем II.
После революции воспитанники Римского-Корсакова занимали ведущие позиции в отечественной музыке: Александр Константинович Глазунов сохранил должность директора Петербургской консерватории. С 1928 года его обязанности исполнял зять Римского-Корсакова Максимилиан Штейнберг. Учеником Римского-Корсакова был Сергей Сергеевич Прокофьев, учеником Штейнберга – Дмитрий Дмитриевич Шостакович (оба – многократные лауреаты Сталинских премий).
Как мы видим, обращение к «Снегурочке» было далеко не случайным. И своевременным: к 1930-м годам в Германии на первые роли выходят национал-социалисты, умело использующие гремучую смесь исторических, мифологических и даже эзотерических концепций для мобилизации населения Германии. Советскому Союзу пришлось проводить не только авральную индустриализацию, но и авральную пересборку историографии. Главный советский историк тех лет М.Н. Покровский отмечал, говоря о романовской исторической школе:
«история, писавшаяся этими господами, ничего иного, кроме политики, опрокинутой в прошлое, не представляет».
Преподавание такой истории в школах было отменено в пользу нового «обществоведения». Однако до своей смерти в 1932 году Покровский так и не смог поставить советскую историческую науку на новую надёжную основу. Когда же клюнул жареный немецкий петух, пришлось обращаться к той самой романовской исторической школе – от Миллера, Байера, Шлёцера с Карамзиным до Бориса Дмитриевича Грекова. На скорую руку был создан некий «исторический Франкенштейн» – соединение Карамзина с марксистским методом, и возобновлено преподавание истории в школах.

Снегурочка и Министерство внутренних дел
Обращение власти к язычеству, фольклору, христианству (знаменитое сталинское «братья и сестры») – всё это поиски путей мобилизации. Опера «Снегурочка» Римского-Корсакова была написана на одноимённую пьесу-сказку Александра Николаевича Островского. Она, в свою очередь, писалась под глубоким впечатлением от книги известного собирателя русского фольклора А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» (1867). Именно там приводится литературная обработка сказки о Снегурке (Снежевиночке). Книга Афанасьева произвела огромное впечатление на современников, и отголоски этого влияния мы ощущаем до сих пор. Однако уже в XIX веке было показано, что этот труд, написанный с несомненной любовью, не имеет, однако, научной ценности, поскольку автор выступил скорее сотворцом мифа, чем его бесстрастным исследователем. Афанасьев фактически выдумал религию поклонения солнцу, которой якобы придерживались наши предки, и которую красочно описал Островский, да и не он один (Достоевский, Горький, Мельников-Печёрский, Блок, Есенин, Хлебников, Пастернак и многие другие использовали труд Афанасьева как настольную книгу). Афанасьев следовал теоретическим наработкам немецких романтиков и создателей т.н. мифологической школы (братья Гримм, Кун, Шварц, Макс Мюллер), наложив их на некритически отобранные источники, в том числе известные мистификации вроде Краледворской рукописи Вацлава Ганки или «Белорусских народных преданий» Павла Древлянского. Научное здесь вошло в противоречие с силой поэтического убеждения, которое способно творить с душами людей сказочные чудеса: ведь поспособствовал же «древнечешский эпос» Ганки пробуждению национального самосознания чехов! Это прекрасно понимал и Сталин, в девятнадцатый раз наслаждающийся «Снегурочкой» Римского-Корсакова.
Но и до Сталина власть использовала этнографию в своих целях. К слову, самым серьёзным игроком на поле отечественной этнографии во времена Афанасьева было … министерство внутренних дел. Министерство разработало и осуществило программу сбора этнографических данных из российских губерний. Информация от тысяч корреспондентов стекалась к министру МВД графу Перовскому через Владимира Ивановича Даля, бывшего главой особой канцелярии министра. Также в 1845 году с подачи Перовского было учреждено Русское Географическое Общество, в том числе занявшееся сбором этнографической информации. Из около 450 сказочных текстов в сборнике Афанасьева 223 представлены РГО, ещё около 200 – отобраны Афанасьевым из архивов, предоставленных лично В.И. Далем. Зачем правительству Николая I понадобилась такая активная этнографическая работа? Дело в том, что в это время по всей Европе активно шли процессы нациестроительства, и этот процесс невозможно было подавить, а значит, нужно было возглавить. Восстание декабристов, этих первых русских националистов, притом аристократов, сильно напугало правящую верхушку. Чтобы разобраться в процессах, идущих на низовом уровне, МВД отправило экспедиции в три губернии: Костромскую, Ярославскую и Нижегородскую. Результаты были удручающими: оказалось, что статистике, которую рисовали приходские священники, нельзя доверять. Цифры на порядки расходилась с тем, что застали чиновники при проверке. Непонятные, ранее неописанные секты, обряды (в статистике это всё значилось «менее 2% старообрядцев»), хозяйственные отношения (старообрядческая экономика практически опутала всю страну), культура, наречия – и всё это в масштабах, от которых нельзя было просто отмахнуться. Да что это творится в нашем Поволжье?! Николай I энергично взялся за сборку единой русской нации. В качестве основы были выбраны теория славянского единства и теория официальной народности, специально сформулированная графом Уваровым: «Православие. Самодержавие. Народность». Удивительная сила идей! Достаточно сделать некое усилие, которое и не усилие вовсе, поймать нить мысли и по наитию сформулировать идею, и она начинает жить сквозь века. Разве сейчас мы не слышим «русский – значит, православный» – и совсем не от религиозных экстремистов. Это вновь делается общественной нормой. Ни для кого не сюрприз, что власть использует религию для обоснования существующего статус кво. Но она не только освящает «верх», она ещё и собирает «низ». Граф Уваров, воспитанник иезуитов, конечно, делал ставку на Православие не из глубоких религиозных чувств. В этом смысле сложно спорить с утверждением, что Россию, в том виде, в котором её застал крах 1917 года, собрало Православие.
Что касается идей славянского единства, то, как и в случае с любым «единством», нужно задаться вопросом: против кого предлагают объединяться? Зародившись уже в конце XVIII – начале XIX веков, идеи эти были направлены, в первую очередь, против Османской империи (к радости Европы). Но, в то же время, они были симметричным ответом на идеи пангерманизма и рост могущества поднимающейся Пруссии. Естественно, с обеими империями уже в ближайшем будущем Россия вступит в войны, и всегда – за братьев славян. Отсюда вывод: если с вами начинают говорить о корнях – вам будут навязывать определённые идеологемы. Если о корнях начинает говорить власть – дело к войне.

КОЛЫБЕЛЬ ДОМА РОМАНОВЫХ
Народ и бояре перед Ипатьевским монастырем в Костроме
умоляют Михаила Романова и его мать принять царство. С рисунка 1673 г.
И панславизм, и пангерманизм были движениями романтическими по сути, оба пытались обратиться напрямую к народным корням. Но если немцы обращались всё больше к дохристианской, языческой мифологии, то в России ставка была сделана на православие и освящаемый им монархический режим. И здесь как нельзя кстати пришлась Кострома – колыбель дома Романовых. Здесь, в Ипатьевском монастыре в 1613 году юный Михаил Фёдорович Романов был призван на царствие. Здесь, несколькими днями ранее, польским отрядом казаков был замучен до смерти крестьянин Иван Сусанин, по официальной версии за то, что не выдал местоположение Михаила. Подвиг Ивана Сусанина как нельзя лучше демонстрировал единение власти и народа. Николай I приказал переименовать центральную площадь Костромы в Сусанинскую и дал высочайшее соизволение на сооружение монументального памятника подвигу Сусанина. Памятник представлял собой огромную вертикальную колонну с головой царевича Михаила Фёдоровича на конце и позолоченным крестом, а также маленькую коленопреклонённую фигуру Сусанина внизу. Впоследствии большевики снесли памятник, уничтожили фигуры (по одной из версий – утопили в Волге), а колонну закопали в сквере.

Памятник царю Михаилу Фёдоровичу и крестьянину Ивану Сусанину (1851)
скульптор В. И. Демут-Малиновский
«Ивану Сусанину — патриоту земли русской» (1967)
Памятник времён СССР, скульптор Н. А. Лавинский

М.И. Глинка написал знаменитую оперу «Жизнь за царя» (сам Глинка, правда, назвал её первоначально «Иван Сусанин. Отечественная героико-трагическая опера в пяти действиях или частях», но накануне премьеры она была переименована, вероятно, по личному желанию Николая I. Возможно также, что это было сделано, чтобы не путать новую оперу с оперой Кавоса «Иван Сусанин», поставленной в 1815 году и имевшей комический характер). Интересно, что ещё в 1812 году его дальний родственник, С.Н. Глинка, представил художественный образ Сусанина в статье «Крестьянин Иван Сусанин, Победитель мести и Избавитель Царя Михаила Федоровича Романова» в журнале «Русский вестник». Советские театры вернули опере название «Иван Сусанин» и долгое время ставили её с новым текстом, написанным поэтом С.М. Городецким. Идея создать национальную русскую оперу пришла Глинке в Берлине. Он искал всего русского – и сюжет, и музыку: «чтобы мои дорогие соотечественники чувствовали себя дома, а за границей меня не сочли хвастунишкой, вороной, которая вздумала рядиться в чужие перья». На одном из вечеров в Зимнем дворце на квартире В.А. Жуковского (Василий Андреевич был в тот момент наставником цесаревича Александра Николаевича), Глинка поделился с Жуковским своей идеей. Автор гимна «Боже, Царя храни!» посоветовал Глинке взять сюжет Ивана Сусанина и предложил барона Розена как автора либретто. Всё, что искал Глинка внезапно сложилось, как паззл. Он писал: «Моё воображение, однако, предупредило прилежного немца /имеется ввиду Розен /; как бы по волшебному действию вдруг создался и план целой оперы, и мысль противупоставить Русской музыке – польскую». Образ врагов Глинка рисовал с помощью польских танцев: полонеза, краковяка, мазурки. Он объяснял: «В мазурке… ослепляющей своим виртуозным блеском, стальным ритмом и упругим движением, можно видеть отражение образа воинственных, бездушных, ослеплённых собственным успехом панов-завоевателей». Похожий приём использовал Шостакович в Симфонии №7 («Ленинградской»), изображая нашествие немецко-фашистских войск. В обоих произведениях нашествию противостоит спокойный, уверенный, но вместе с тем лиричный и глубокий напев русских песен. Так, описывая финал 4-го действия, Глинка пояснял: «При сочинении начала в ответах Сусанина я имел в виду нашу известную разбойничью песню «Вниз по матушке, по Волге», употребив начало её удвоенным движением». Уже упомянутый Василий Стасов писал: «Бог знает, явится ли когда-нибудь ещё на русской сцене человек, который с такой потрясающей правдою способен будет воплотить собою всю неподражаемую простоту, искренность и могучую силу народного русского типа, как его создал Глинка».
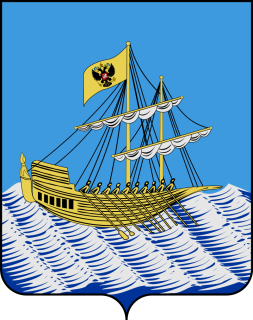
Традиция официального почитания Ивана Сусанина как спасителя основателя династии Романовых начинается с Екатерины II. В 1767 году она предприняла поездку по Волге. В ознаменование её посещения Костромы высочайшим соизволением городу был пожалован герб – первому из российских городов – с изображением галеры «Тверь», на которой Екатерина II прибыла в Кострому.
Поволжье и русский бунт
Автору неизвестно, какое впечатление произвели «азиатские» владения на императрицу, но разразившаяся через несколько лет в Поволжье крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва не на шутку перепугала власть. Замечено: как только царское правительство вступало в какую-то войну, это приводило не к единению власти и народа, а к разворачиванию бунтов. Для усмирения того же Пугачёва пришлось снимать с русско-турецкой войны действующую армию под управлением Суворова. Менее известные бунты проходили и в другие русско-турецкие войны, и в Крымскую войну, не говоря уже о революциях 1905 и 1917 годов. Применительно к нашему разговору о корнях, стоит отметить следующий факт: Александр Сергеевич Пушкин очень интересовался историей крестьянской войны 1773-1775 годов и даже предпринял длительную поездку по Поволжью и Уралу с целью написания «Истории пугачёвского бунта», частично – в сопровождении В.И. Даля. Известна крылатая фраза Пушкина об этих событиях «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» Однако был ли этот бунт русским? В манифестах Пугачёва он обращается к многочисленным народам Поволжья напрямую, зачастую на их языках, не применяя к ним этноним «русские». Восстание показало Екатерине, что никакого единства народа, а тем более народа и власти нет и в помине, и нужно что-то делать. Екатерина энергично взялась за сборку единой русской нации. Не очень-то доверяя местным идеологам (а за идеологию тогда отвечала церковь), она пригласила в Россию орден иезуитов, который славился большим количеством учёных высшей пробы, и как раз в тот момент впал в немилость в Ватикане. Напрасно считают этот орден «безродными космополитами» – именно с их подачи при Екатерине начала складываться идеология государственного патриотизма и формирование на её основе «единого русского народа».
Однако отчуждение народа от власти нарастало. Возможно, корень такого положения следует искать в Костроме, в колыбели власти? Великий русский драматург Александр Николаевич Островский чувствовал, что здесь скрыта какая-то загадка, роковая тайна Российской Империи. Его интерес к истории Смуты вылился в несколько «исторических хроник в стихах».
Действительно, загадок много. Почему Ипатьевский монастырь? Бывший много веков родовым гнездом Годуновых, со смертью царя Бориса он всё больше склоняется к конкурирующему роду Романовых. С приходом Лжедмитрия II архимандрит монастыря Феодосий присягает ему, как и Филарет (Романов), ставший патриархом при тушинском воре. Более того, горожане с войском Василия Шуйского более полугода осаждают монастырь с войсками Лжедмитрия внутри, при этом поляки под руководством пана Лисовского пытаются снять осаду. Почему Романовы? Ведь они сами находились в лагерях обоих Лжедмитриев и отец семейства, Филарет, принимал деятельное участие в их авантюрах? Почему Михаил Фёдорович? Ведь его отец в Речи Посполитой уже утрясал последние детали восшествия на московский престол польского королевича Владислава, а в Москве уже чеканились монеты с изображением Владислава? Почему Кострома, ведь её воевода Шереметев пытался чинить препятствия народному ополчению Минина и Пожарского, а затем каким-то чудом «всплыл» при дворе Михаила Фёдоровича и пользовался там большим уважением? Нужно признать, что «придворная» романовская историография Карамзина, а значит и наша, современная – не дают удовлетворительных ответов, у нас нет непротиворечивой объяснительной модели нашего прошлого. Тем не менее, как и цари, все президенты современной Российской Федерации посещают Ипатьевский монастырь. Дмитрий Медведев – уже на 8-й день после вступления в должность. Да, и колонну, закопанную большевиками, уже выкопали.

Кострома в русских обрядах
Фото: Валерий Нистратов “Похороны Костромы”, 1996 (http://kostromka.ru/kostroma/land/05/zontikov/5.php#mifology)
Но Кострома вынуждает нас задавать вопросы о наших собственных корнях. Нам осталось сделать третий поворот ключа. Мы должны были поговорить об обряде, в котором фигурирует Кострома, так называемые «похороны Костромы». Сразу оговорюсь, что название города, скорее всего, происходит от названия реки Кострома, как это часто и бывает. А вот название реки вряд ли происходит от обряда – он не является чем-то специфичным именно для этого места. Возможно, река имела сходное по звучанию финно-угорское название (окончание -ма довольно распространено и означает «местность», «край»). Славянские колонисты услышали его по-своему, и отсюда, возможно, появилась «Кострома». Славяне застали на этой земле финно-угорский народ меря. Кстати, фамилию Сусанин традиционно выводят из женского имени Сусанна, что выглядит крайне натянуто. В качестве гипотезы можно предположить, что звучала она как Сусаннен, например. Тогда в ней слышатся корни suo (болото) и, возможно, nen (северный). Казалось бы, мы немного отвлеклись: куда ты завёл нас, Сусанин-отец? В болото!
Предлагаю вспомнить о Берендеевом болоте, с преданий о котором и началось написание «Снегурочки». Александр Николаевич Островский ехал в своё костромское имение Щелыко́во и в Ярославской губернии услышал легенду о «Берендеевом царстве», управлявшемся славным царём Берендеем. Город Берендея по преданию стоял чуть южнее нынешнего Переславль-Залесского на берегу озера. С тех пор озеро превратилось в болото, которое и по сей день носит название «Берендеева». Островский выбрал народ берендеев как носитель древней русской религии и обрядов, реконструированных Афанасьевым. Но, по версии, приводимой в энциклопедиях, исторические берендеи – это кочевой тюркоязычный народ, обитавший к югу от владений киевских и переяславских князей, в Поросье и верхнем Побужье, т.е. на территории современной Украины. Другие их названия – торки или чёрные клобуки (т.е. «чёрные шапки», сейчас народ со сходным названием – каракалпаки – населяет окрестности Аральского моря в Узбекистане). Как этот этноним оказался в лесной глуши Волжско-Окского междуречья? По видимости, так же, как и другие топонимы, перекочевавшие вместе с мигрирующими славянами с Днепра в верховья Волги: Переяславль, Юрьев. Кем бы они ни были, приблизительно к XII веку берендеи уже вели полуоседлый образ жизни на южных рубежах Киевского и Переяславского княжеств, охраняя их от набегов половцев. Таким образом, их можно считать прообразом казачества. А князья и казаки очень часто наведывались в верховья Волги, благо от верховьев Днепра до Волги чуть больше 50 километров.
Итак, русский обряд «похорон Костромы» принесён славянскими колонистами на землю меря. Вот только о какой колонизации мы говорим? Ведь параллельно с княжеской шла совсем другая, стихийная крестьянская колонизация, в основном из северных, новгородских земель, которая на порядок превышала княжескую численно, и никак от неё до поры не зависела. Это были совершенно разные культуры – если князья приносили с собой городскую культуру, христианство, сельскохозяйственную практику распашки земель под монокультуры, то вольные крестьяне занимались подсечно-огневым земледелием в лесной глуши. Распашка под монокультуры – более трудозатратный и менее продуктивный способ сельского хозяйства, однако он позволяет вести оседлый образ жизни довольно большим коллективам. А это значит жёсткое подчинение, иерархия, мобилизация: эти люди точно знали, что они – русские. Интересно, что на какое-то время, с 30-х годов XII века, летописи начинают называть Русью, Русской землёй лишь Среднее Поднепровье, обособляя полян (киевлян) от других славянских племён, к которым этноним «русские» не применялся. Действительно, поляне отличались от других восточных славян тем, что жили родовой общиной, т.е. в условиях патриархальных, практически кастовых порядков.
В лесу, напротив, жили по законам территориальной (соседской) общины: малые семьи, отсутствие патриархата, равенство и горизонтальные связи, вечевое управление, демократия. Маленькие селения по 2-3 двора зачастую были разбросаны за десятки и сотни километров друг от друга. Крестьяне «подсекали» на выбранных участках деревья, давали им подсохнуть несколько лет, потом выжигали. Сеяли прямо в золу, что давало урожай в разы богаче, чем при пахотном земледелии, при меньших трудозатратах. Раз в несколько лет нужно было менять участок – почва истощалась. Старый участок забрасывали – через 50 лет на нём опять был лес, который можно было выжигать. Это, кстати, возможно только при отношении к земле и лесу как к «ничейному». Совершенно понятно, что такой способ земледелия возможен только при очень малой плотности населения леса. Представляется, что эти славяне были сродни американским индейцам. Новгородцы, селькупы, ханты, манси и т.д. – такие же обитатели тайги, как и какие-нибудь каманчи. Славянскую берестяную лодку не отличить от селькупской или от индейской. Поэтому когда нам говорят, что славяне – это пахари, нужно понимать, что к моменту формирования древнерусского государства речь идёт не более чем о 10% населения (такую оценку даёт Эдуард Кульпин в статье «Социально-экологический кризис XV века и становление российской цивилизации»). До других 90% ни князья, ни кочевники просто физически не могли дотянуться и поставить под контроль. Потому известная нам история Руси – с набегами кочевников, княжескими междоусобицами – касалась этих 10% населения, живших в княжеских городах и неподалёку. Первые такие города в Залесье – Ростов, Переяславль-Залесский (нынешний Переславль-Залесский), Юрьев-Польский – расположились, что нетипично, вдали от основных водных транспортных артерий. Дело в том, что пахотный метод земледелия продиктовал и расположение городов – в так называемых «опольях» – сравнительно небольших тогда пространствах, свободных от леса. Но очень быстро ополья разрослись до нынешних циклопических размеров. В то же время и население леса росло и уничтожало его всё более ускоренными темпами. Сходные процессы уничтожения леса происходили и в Европе. И вот, к периоду возвышения Москвы леса стало так мало, что князья, наконец, встретились с ним и поставили под контроль. Представляется, что и княжеские, и стихийные колонизаторы воспринимались финно-угорскими насельниками этих мест как бедствие.
Говоря об обряде похорон Костромы, как о нашем, русском обряде, мы должны разобраться, каких «наших» мы имеем в виду. Ведь это совершенно разные мировоззренческие векторы, и поставить эти вопросы, как минимум, не менее важно, чем описать процесс похорон соломенного чучела. Кострома призывает нас если не к ответу, то хотя бы к вопросу, к живой мысли о своих корнях. Проще и, наверное, выгоднее и сытнее согласиться с заранее готовыми ответами. Но мы чувствуем: правда – не там, где кормят. Она там, где корни. Где с особой ясностью обнажается вопрос: кто мы, русские?
Использованные источники:
Пыжиков А.В., доктор исторических наук, профессор МПГУ, цикл передач по истории России на телеканале День.ТВ
Артамонов Г.А., кандидат исторических наук, профессор МПГУ, цикл передач на официальном канале МПГУ.
Эдуард Кульпин «Социально-экологический кризис XV века и становление российской цивилизации»
в оформлении обложки использована картина Врубеля “Снегурочка”
статья написана для журнала “Народное творчество” и размещается на О.ру в авторском варианте с разрешения редакции
Добавить комментарий